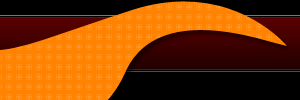Записки белого генерала. Часть первая
Впервые на страницах “Гомельскай праўды” публикуется уникальная находка из архивов белой эмиграции. Гомель и Гомельская губерния 1921 года в воспоминаниях белого генерала Иродиона Данилова. Мемуары о службе в нашем регионе, подробно рассказывающие о разных сторонах жизни, были изданы автором в Берлине в 1925 году и пребывали с тех пор в забвении.
Сведений о мемуаристе — генерале Иродионе Андреевиче Данилове (1871 — 1954 гг.) — сохранилось немного. Накануне Первой мировой войны, еще в чине полковника, он вошел в состав Генерального штаба Российской армии, затем получил генеральское звание и командование Третьей Северной стрелковой бригадой, а с началом войны — и всеми войсками Двинского района Северной области (район Северной Двины и Архангельска). Здесь Иродион Данилов встретил Февральскую, а затем и Октябрьскую революцию.
Приход большевиков к власти категорически не принял, участвовал в Гражданской войне на стороне Белого движения. Однако в феврале 1920 года попал в плен к красным. После заключения в московской Лубянке оказался в одном из самых знаменитых концлагерей для бывших царских офицеров — Покровском. В июне 1920 года более тысячи заключенных этого лагеря были вывезены из Москвы на север России и расстреляны.
Иродиону Данилову, в числе немногих офицеров, удалось уцелеть — он согласился перейти на службу в Красную Армию.
Основные события Гражданской войны для Советской Республики летом 1920 года развивались на Западном фронте. Красная Армия отражала наступление польских войск. Фронт срочно укреплялся, 11 июня в его составе была создана 4-я армия, в штаб которой на должность инспектора пехоты направили военспеца Данилова.
Участвуя в июльской операции 1920 года по освобождению Беларуси, Иродион Данилов оказался на Полесье, прошел от Гомеля до Пинска. В августе вместе с 4-й армией дошел до Варшавы. Однако неверная оценка советским командованием своих сил и сил противника привела к поражению Красной Армии в Варшавской операции. В результате перемирия и долгих переговоров в марте 1921 года появился знаменитый Рижский мир, главным пунктом которого стала передача Польше Западной Беларуси и Украины.
Еще в ноябре 1920 года, с началом перемирия, 4-я армия была переброшена из состава Западного на Южный фронт. Дислоцируясь в Симферополе, участвовала в ликвидации остатков войск П. Врангеля и Н. Махно. Генерал Данилов стал свидетелем всех ужасов завершительного этапа Гражданской войны, окончательного проигрыша Белого движения и кровавого триумфа победителей. Несмотря на достаточно высокие должности в Красной Армии, генерал не изменил отношения к Советской власти, о чем говорит и название, и содержание публикуемых ниже воспоминаний.
Утвердившись в решении во что бы то ни стало выбраться из «советского рая», Иродион Данилов отправляется в Гомель. Здесь он планировал «затеряться», а затем по знакомому маршруту через Житковичские леса перейти границу с Польшей.
Ему действительно удается скрыть свое генеральское прошлое. Однако попытка «взять границу с ходу» срывается, и только через год, уехав в марте 1922 года в Петроград, он сможет перейти советско-финскую границу.
О жизни Иродиона Данилова в эмиграции известно еще меньше. Свидетельством его активности стали только мемуары «Воспоминания о моей подневольной службе у большевиков», опубликованные в 1924–1925 гг. в известном эмигрантском берлинском издании «Архивы русской революции». Этот источник остается малодоступным не только широкому отечественному читателю, но и для исследователей.
Отдавая мемуары Иродиона Данилова на суд читателей «Гомельскай праўды», хотелось бы обратить внимание на два обстоятельства. Первое — сведения, полученные автором в пересказе других лиц, не всегда отличаются достоверностью. Те же явления и события, которые он имел возможность наблюдать, описаны достаточно правдиво. И второй момент — критически-обличительные оценки советской власти во многом связаны с политической позицией Данилова. Тем не менее, очень близки к реалиям происходившего.
Авторы выражают благодарность московскому историку Андрею Кручинину за помощь в ознакомлении с текстом и минскому исследователю Андрею Киштымову за предоставленные сведения о послужном списке Иродиона Данилова.
Итак, сами мемуары.
Подготовка к переходу границы
30-го апреля, в 4 часа ночи, мы приехали в Гомель, затратив, таким образом, на переезд из Симферополя девять суток. Что по тому времени надо было считать малым сроком, так как поездка наша складывалась довольно удачным образом, и мы сравнительно легко, часто совершенно случайно, попадали на поезда и даже ехали в собственных отдельных вагонах. Можно прямо сказать, что нам повезло. Тишков (ординарец генерала И. Данилова — прим. авт.) отправился дальше к себе домой в Мстиславский уезд; мы сердечно распростились, оставшись довольны друг другом.
Просидев до утра на вокзале, я отправился в город искать себе квартиру и по счастливой случайности нашел себе угол у порядочных людей, которые не знали о моем прошлом, т. е. службе у белых. В Гомеле меня никто не знал и, конечно, не в моих интересах было самому рассказывать о себе, ибо впоследствии сведения о моем прошлом могли дойти до местной Чека, и за мной началась бы слежка. А теперь я был только военнослужащий инспекция пехоты 4-й армии, уволенный по болезни в отпуск. Таким я и явился в Уездвоенкомат (Уездный военный комиссариат, отправляющий функции Уездного воинского начальника), предъявив свой отпускной билет. Здесь меня зачислили за собой, выдав мне удостоверение на право жительства в Гомеле с правом поездки на ст. Житковичи, куда я был уволен также в отпуск инспекцией пехоты.
Ст. Житковичи находилась в 30 верстах от реки Случь, которая служила границей между Польшей и Совдепией. Эта местность была мне относительно знакома с прошлого года, когда я ездил в Пинск и обратно и, кроме того, у меня осталась с прошлого же года топографическая карта этой местности в масштабе двух дюймов. Изучив подробно карту, я решил в этом направлении перейти границу и следовать далее на Вильно, где у меня были знакомые, которые помогли бы мне материально, а также благодаря своим связям, избавили бы меня от польского концентрационного лагеря.
Кроме того, путем осторожных вопросов, не выдавая своего желания бежать, мне нужно было выяснить, насколько строго охраняется граница, где находится пограничный Особый Отдел и в каком месте безопаснее всего перейти реку. На это у меня ушло времени более двух недель. Что касается моей поездки на ст. Житковичи, т. е. в район пограничной полосы, которая, как оказалось, вся была наводнена агентами — шпионами Чека, то у меня на случай, если бы при поверке документов спросили, почему я оказался в этой местности, был приготовлен ответ: еду за своими вещами, которые я оставил на хуторе за Житковичами в прошлом году при поспешном отправлении из Пинска вместе с отступающим штабом 4-ой армии. Это в действительности так и было, но только не со мной, а с некоторыми сослуживцами по штабу 4й армии.

Польские артиллеристы в Пинске, 1919 год
Злоключения под Житковичами
Наконец, 17-го мая я тронулся в путь-дорогу, сказав дома, что еду за своими вещами в Житковичи и что на это имею разрешение от Уездвоенкомата.
В то время, как я уже выше упомянул, не существовало правильного пассажирского движения и билетов на проезд покупать не надо было: все было бесплатно, в том числе и езда по железным дорогам. Ехать мне надо было в направлении Речица — Калинковичи (Мозырь). Из окрестностей этих местечек большевики вывозили в Гомель дрова, заготовленные прошлой зимой лесозаготовительными дружинами для железной дороги. Отсюда обратно ежедневно отходил опорожненный состав товарных вагонов вновь за дровами, и вот в таком поезде мне удалось устроиться вместе с другими, едущими до Мозыря по своим делам, и доехать до ст. Калинковичи. Здесь посчастливилось пересесть на подобный же поезд и доехать до ст. Житковичи. По дороге была проверка документов, я предъявил свое удостоверение и, как не внушающий никакого подозрения, был оставлен в поезде. Доехав в двое суток до ст. Житковичи, я вышел на этой станции и отправился по знакомой мне дороге к селу Люденевичи. Пройдя версты четыре, я свернул с дороги в лес и пошел уже по компасу и карте, тщательно избегая встречи с кем-либо, а также обходя встречающиеся хутора, которых здесь было особенно много, так как из раньше произведенных мною расспросов мне было известно, что жители пограничной полосы и особенно пастухи находятся на службе у местной Чека и доносят ей о всяком виденном ими человеке, особенно в настоящее время, когда шла усиленная тяга беглецов за рубеж.
Дело в том, что, как я уже говорил выше, производилась демобилизация армии и из различных воинских частей были уволены в бессрочный отпуск красноармейцы, родина которых была в окрестностях Лунинца и Пинска. Местности эти отошли по Рижскому договору с Польшей к последней, а в штабах воинских частей, благодаря невежеству и безграмотности начальства, а также и секретности Рижского договора, который большевики весь не опубликовали, никто не знал, где проходит настоящая граница между Польшей и Совдепией, и увольняли в означенные пункты бессрочно отпущенных красноармейцев, которые, приехав в Калинковичи и Житковичи, узнавали, что они теперь уже подданные Польши, а через границу их не пропускала местная Чека. Таким образом, в этих двух пунктах скопилось несколько тысяч таких красноармейцев, которые сидели на весьма скудном пайке, томились от безделья и неизвестности и рвались домой. Размещены они были отвратительно в нетопленых домах с выбитыми окнами и дверьми. Некоторые из них сидели уже давно, с января месяца сего года. Наиболее ярые протестовали против задержки их отправки на родину, но были местной Чека арестованы и в назидание остальной публике расстреляны. После этого вся эта масса притихла, но зато началось усиленное бегство за границу и именно в этом направлении, которое и я избрал для себя. Обо всем этом я раньше ничего не знал и услышал только в вагоне от ехавших со мной красноармейцев, случайных попутчиков. Некоторым счастливчикам удавалось проскользнуть через границу, но большинство арестовывалось агентами Чека и отправлялось в Житковичи, где для них была устроена тюрьма в помещениях двух еврейских синагог и сельской школы, окруженная высоким забором и окутанная колючей проволокой. Кроме того, через границу перевозилась в большом количестве контрабанда, которую большевики преследовали, и пойманные контрабандисты отправлялись тоже в эту тюрьму. Конечно, по большевистскому обычаю шла жестокая расправа с обитателями этой тюрьмы, по ночам постоянно были слышны расстрелы и, хотя все это было известно красноармейской демобилизованной массе, тоска по родине и ужасные условия жизни у большевиков гнали их к границе.
В этом году было большое половодье, а я не принял этого во внимание при своем выступлении в путешествие. Местность, по которой мне пришлось идти, находится в бассейне реки Припяти, перерезана массою мелких речек, впадающих в Припять, которые летом пересыхают от жары, а в настоящее время были полны водой. Кроме того, эта местность была преддверием знаменитых Пинских болот, и мне было очень трудно идти без дороги, только по компасу глухими Полесскими лесами. Приходилось делать большие обходы трясин, попадая иногда в совершенно безвыходное положение, сбиваясь с пути и опять выправляя направление по компасу. Это не был обыкновенный сосновый лес, а сплошная трясина, поросшая вязом, осиной и березой. Если прибавить к этому огромное количество комаров, которые тучами меня окружали, то легко представить себе, как мне было трудно идти этим путем. По карте расстояние от Житковичей до границы выходило в 30 верстах, но я думаю, что прошел больше в два раза, блуждая по болотам. Переночевав в лесу на болотной кочке и не сомкнув ни на минуту глаз, несмотря на усталость, так как тучи комаров не давали мне покоя, я, как только рассвело, тронулся дальше и, в конце концов, через двое суток своего лесного путешествия пришел к заветной цели: к реке Случь, в назначенное мною по карте место, определив точку стояния компасом. Но, к моему большому горю, Случь в данный момент была шириною более 30 сажен, благодаря большому половодью, в то время как в июльскую жару она пересыхала настолько, что ее можно было перейти свободно в брод. Берега были сильно болотисты и лесисты; кругом не было ни живой души, и, будь у меня топор, я мог бы смастерить плот, на который бы сложил свою одежду, и вплавь перебрался бы на тот берег, толкая плот перед собой; плыть же в одежде я не рискнул, мог бы утонуть, явиться в Польшу в костюме Адама тоже было немыслимо.
Подготовили Валентина ЛЕБЕДЕВА, Ирина ТАКОЕВА
Продолжение следует

(Продолжение. Начало в № 120-121)Продолжаем публикацию мемуаров генерала Иродиона Андреевича Данилова о его пребывании в Гомельской губернии и службе у большевиков в 1921 году.

Открыты новые документальные свидетельства о Стрекопытовском восстании, состоявшемся в Гомеле 24 — 29 марта 1919 года.

Поделиться:
Твитнуть
Нравится